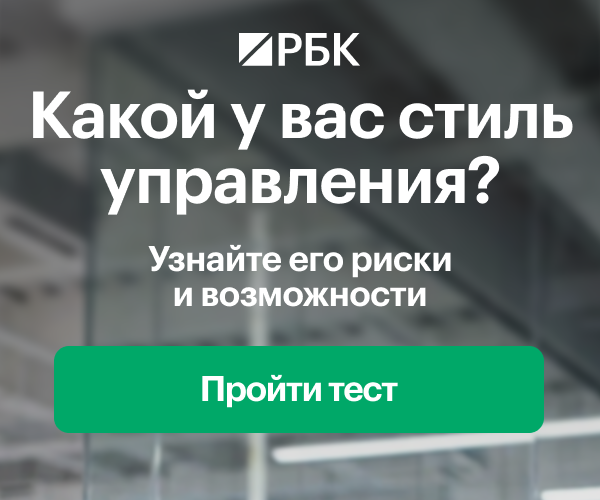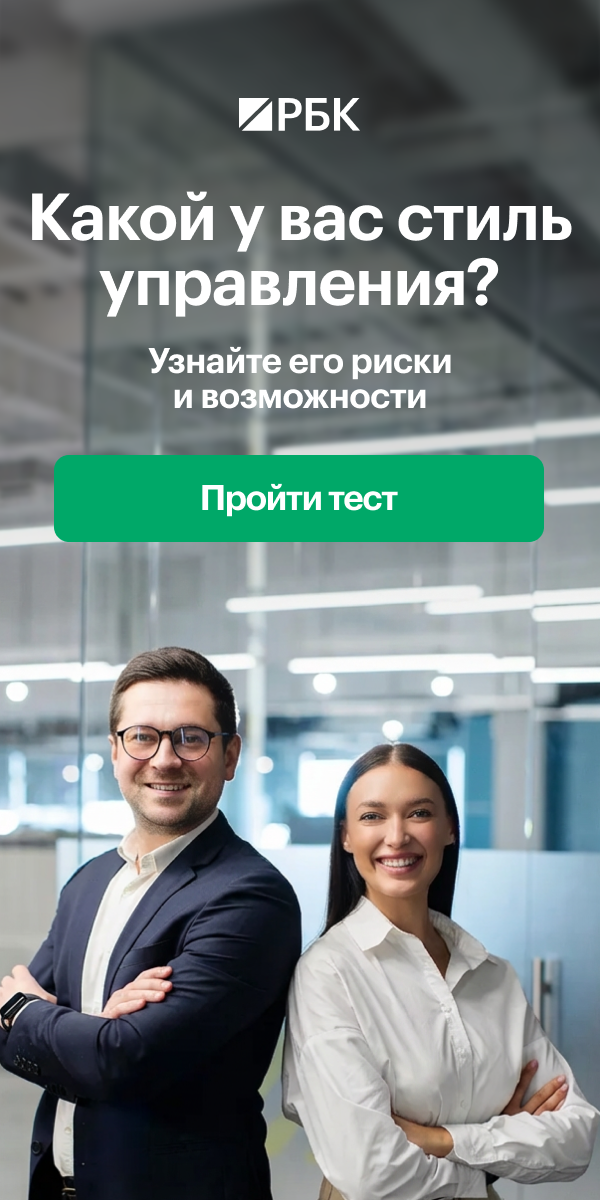Альбина Мехова — РБК: «Власть замечают, когда от неё что-то хотят»

Последние выборы в регионе прошли при в целом рекордно низкой явке — среднее её значение лишь немного превысило 20%. Что стоит за этими цифрами? Что своим нежеланием идти на избирательные участки хотел сказать власти электорат? Поиск ответа на эти вопросы и стал содержанием нашего разговора с экспертом РБК.
— Почему так мало народа пришло к избирательным урнам?
— Для меня это тоже было удивительно. Мы прогнозировали чуть большую явку. На мой взгляд тому есть несколько причин. Во-первых, практика показывает, что к выборам муниципального уровня интерес несколько ниже, чем к выборам более высокого уровня. А, например, в Череповце за всю его новейшую историю впервые муниципальные выборы прошли без «довеска» в виде выборов президента, депутатов Госдумы или ЗСО. Наверное, это тоже сказалось, потому что подготовка к выборам проходила без традиционной информационной поддержки не только региональных, но центральных СМИ. Второй аргумент — не очень удачный выбор дня голосования во второе воскресенье сентября, когда еще не закончился отпускной настрой, дачный сезон и т.д. Это, я считаю, тоже сказалось на отношении к выборам, учитывая, что тот, кто хотел, имел возможность проголосовать досрочно.
Ещё одним аргументом стала, как это не странно, предсказуемость результатов: многие понимали, что победа будет на стороне кандидатов от «Единой России», и это не вызывало какой-то интриги, интереса.
Все как бы предопределено, не интересно, зачем я пойду, если все и так понятно. И последний аргумент — мне кажется, что интерес к муниципальным выборам не только у избирателей был меньше, но и у оппозиционных партий.
— Как вы думаете, это только череповецкий феномен — подавляющее преимущество кандидатов от «ЕР»? Ведь, например, на муниципальных выборах в той же Москве неплохой результат получили кандидаты от оппозиции, на довыборах в Думу Вологды представитель ЛДПР опередила кандидата от «партии власти»…
— Мне кажется, многое зависит от активности местных отделений этих партий. В межвыборный период в Череповце оппозиция меньше слышна. К тому же местные отделения ЛДПР и КПРФ, как показалось, большую ставку сделали на выборах в районе, а не в городе.
И я согласна со многими аналитиками, что в этот раз это как-то особенно ярко проявилось в Череповце не то чтобы даже политическое равнодушие населения, а как некоторые его называют «политическое иждивенчество».
То есть когда-то политическое право голоса было завоеванным, и это было хорошо. А сегодня хочу — пойду, а не хочу — не пойду. Иждевенчество проявляется в том смысле, что «пусть всё сделается без меня»: вроде, и так все хорошо, чего я буду напрягаться. И это уже, мне кажется, требует особого внимания, потому что любое право предполагает обязанности, а с правом голоса у нас как-то получается без обязанностей. То есть я его имею и что хочу, то с ним и делаю.
— Думаю, политическое «иждивенчество» было проявлено не только со стороны электората, но и со стороны значимых в городе людей, которые бы могли выступить в роли кандидатов, но не стали этого делать…
— Может быть. Понимаете, с одной стороны, парадокс, — при нынешней системе власти прямым волеизъявлением народа выбираются только депутаты. Теперь от депутатов зависит, кто мэр, кто глава города. По большому счету это должно было прибавить политического веса и интереса со стороны потенциальных кандидатов. И мне кажется, люди ещё не совсем уловили вот это изменение в новой муниципальной системе управления.
А что касается возможных альтернативных кандидатов со стороны, к примеру, бизнеса то, может быть для них сдерживающим фактором стала явная «командность» «Единой России». Самовыдвиженцам трудно противостоять этой командной силе.
Кстати здесь мы заметили некий парадокс. В наших соцопросах большинство людей на вопрос, «играет ли партийность какую-то роль при голосовании?», отвечали, что нет, не играет. А в конечном счете получается, что играет. Кроме того, на этих выборах у «ЕР» была «козырная карта» — проект «комфортная среда», который заинтересовал население, вызвал у избирателей личный интерес.
— Хорошо ли, по-вашему, что в Череповце подобралась такая монолитно-партийная Дума?
— Не знаю. Для законодательных и совещательных органов чрезвычайно важна привычка иметь оппонента, учитывать иное мнение.
Сейчас для череповецкой Думы очень важно будет индивидуальное мнение депутатов. Им нужно будет выступать не от партии, а «от себя».
Это трудно, тем более за последнее время все привыкли к такой внутрифракционной партийной дисциплине, а здесь надо будет выстраивать другие отношения. Посмотрим, как это будет получаться.
— Следующие выборы — выборы президента страны — будут отличаться от муниципальных?
— Думаю, что общего между ними будет мало. Потому что это выборы президента, пожалуй, единственные выборы, которые вызывают настоящий интерес избирателей. И вообще у нас президент — единственный, наверное, политический институт, который одобряется народом. Рейтинг Путина на протяжении последнего срока практически не снижался, несмотря на разные ситуации. Поэтому и в данном случае может повториться история с неким отсутствием интриги. Но эти выборы пройдут в марте, во-первых, во-вторых, это будут выборы самого высокого уровня, соответственно, и интерес к ним, и явка будут. Главное, информацию о выборах будут транслировать центральные СМИ, которые так или иначе все-равно являются самым массовым каналом получения информации. Мне кажется, мобилизованность на следующие выборы безусловно будет выше. А дальше надо будет посмотреть на кандидатов.
Кстати, тут уже возникла интересная ситуация: в СМИ уже запущена с известной долей шутки идея о том, что одним из кандидатов на президентский пост нужно выставить женщину. Это будет некая интрига.
Это несколько рифмуется с ситуацией в Череповце: сейчас брутальный металлургический город получил женское управление.
— Раз уж мы заговорили о предстоящих президентских выборах, хочется спросить: почему один из важнейших кандидатов, Владимир Владимирович Путин, так сторонится «Единой России» в своей кампании?
— Мне кажется, такое уже было у Владимира Владимировича. На одних выборах он шел от партии власти в качестве её лидера. Но на второй срок они — он и партия — уже шли отдельно. Сейчас у Путина высокий рейтинг, который, мне кажется, заработан не партией, а им лично. Именно потому что в России еще, наверное, долго будет оставаться привлекательной такая персонофицированная власть, когда есть человек, который отвечает за свои слова, и нет такой коллективной «безответственности». Мне кажется, Путин будет использовать такое отношение и будет основываться на своих личных качествах, на своих словах, на ответственности, полномочиях, которые, кстати, прописаны в Конституции.
Но партия «ЕР» по любому будет работать на президента. Можно два ресурса использовать отдельно. И они будут складываться. А если он бы Путин формально шел от «ЕР», то это был бы один ресурс.
— По поводу низкой явки — мне попалось и такое мнение, что она — следствие определённого неблагополучия в положении населения — люди просто заняты своим выживанием, им не до власти. Как выразился один автор, «голодные не бунтуют», претензии к власти начинают высказывать тогда, когда основные потребности удовлетворены и хочется чего-то большего. Что вы об этом думаете?
— Знаете, хотелось бы, чтобы это было так. Но я в этом сомневаюсь. Власть замечают и начинают к ней как-то относиться, когда от нее чего-то хотят, когда что-то не так. Пока воздух есть, мы его не замечаем. Как только его становится меньше, мы понимаем его важность. И самое сложное, мне кажется, это конструктивность во взаимоотношениях общества и власти. Когда надо проявить активность, а, вроде бы, нет необходимости. Это сложно. И общество ещё не совсем в этом смысле понимает власть, несмотря на то, что власть уже дает всяческого рода посылы, призывы к этому конструктивному партнерству. Хотя уже понемногу появляется конкретный интерес, пусть даже немного корыстный. Почему у нас сейчас так активизировалось самоуправление, социальное участие в жилищно-коммунальной сфере: ТСЖ, ТОСы и т.п.? Потому что есть живой интерес: это мой дом, мой двор, я хочу сделать, чтобы мне и всем остальным было лучше. А когда этот интерес дистанцирован, когда это не сейчас и не мне лично, это сложнее. Можно проявить или не проявить активность — ничего от этого не изменится. Поэтому всё-таки я убеждена, что, когда всё хорошо, политической активности бывает меньше.
У нас исторически складывалось так, что сама политическая активность интерпретируется только как оппозиция власти. А вот опыт конструктивных, партнёрских отношений с властью очень невелик. К этому еще нужно приделывать какие-то «рычаги».
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе